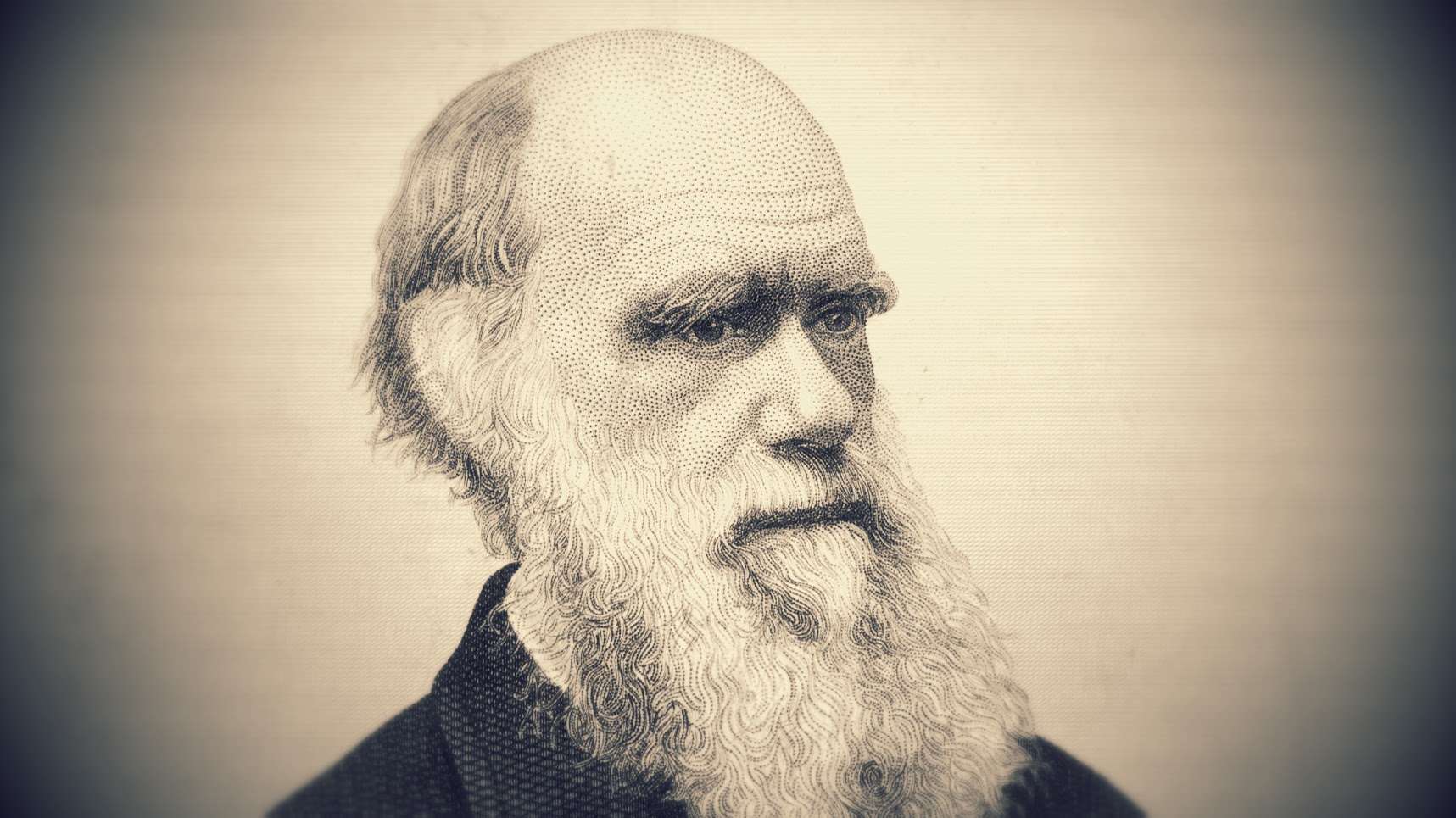
27 Окт Дедушка Дарвина
Что такое кошмар? У почтенного доктора Эразма Дарвина есть кое-какие идеи по этому поводу. У художника Иоганна Фюссли тоже — и он дает свой жуткий образ того, чти мы называем сегодня бессознательным. Его «Кошмар» имел феноменальный успех в конце XVIII века; очевидно, со временем его власть не утратила силы, особенно если знать, что мать Мэри Шелли, автора «Франкенштейна», была безумно влюблена в Фюссли: от одного кошмара к другому.
Среди многочисленных «династий», превративших историю науки в свою семейную историю, нельзя не упомянуть семью Дарвинов. И если основатель династии врач и ботаник Эразм Дарвин (1731 — 1802) был скорее натурфилософом, чем ученым, то его потомки следовали семейной традиции в более современном стиле — в стиле XIX века. Один из его сыновей, тоже врач, приходился отцом Чарльзу Дарвину, устроившему большой переполох, длящийся до наших дней, в ученой среде, а у самого Чарльза был сын Фрэнсис, ботаник, и сын Джордж, математик, обнаруживший евгенические аргументы в его работах о наследственности. Если принять к сведению, что близкий друг и прозелит Чарльза Дарвина Томас Хаксли (Гексли) тоже основал знаменитую династию (от биолога Джулиана до писателя Олдоса), то можно сказать, что эволюционисты, изучая самих себя, без труда найдут доказательства наследования приобретенных признаков.
Чтобы основать династию, важно не скупиться на потомство: в двух своих браках, а также бесчисленных связях на стороне доктор Эразм прижил четырнадцать детей. Создавшаяся таким образом «теплая семейная атмосфера» вовсе не отвратила этого jolly good fellow [развеселого доброго малого (англ.)] от любви к приятному обществу. Осев после окончания медицинского факультета Кембриджа в маленьком городке Лихфилд неподалеку от Бирмингема, Эразм скоро зарекомендовал себя среди пациентов своими медицинскими талантами и вкусом к техническим новшествам. Он колесил но окрестностям в конной повозке, снабженной амортизированной подвеской (весьма уместной при уютной полноте доктора) его собственной конструкции, дополненной вскоре первым в истории дифференциалом — устройством, обеспечивающим направляющим колесам на поворотах небольшую разницу в углах. «Его интересовало все, кроме религии», — скажет потом один молодой визитер по имени Кольридж, очарованный радушием хозяина. Он видел в Эразме «первого среди литераторов Европы, и самого оригинального». И правда, доктор Эразм не только пачкал руки машинным маслом, но и умел сочинять цветистые стихи. Даже лучше: он мог делать и то и другое одновременно, являя и науке и литературе пример забытого жанра «научной поэзии», воспевая с романтическим пылом чудеса технического прогресса. Свидетельством тому — дарвиновская «Желтая подлодка», где упоминается его друг-химик Джозеф Пристли (1733—1804), один из первооткрывателей кислорода.
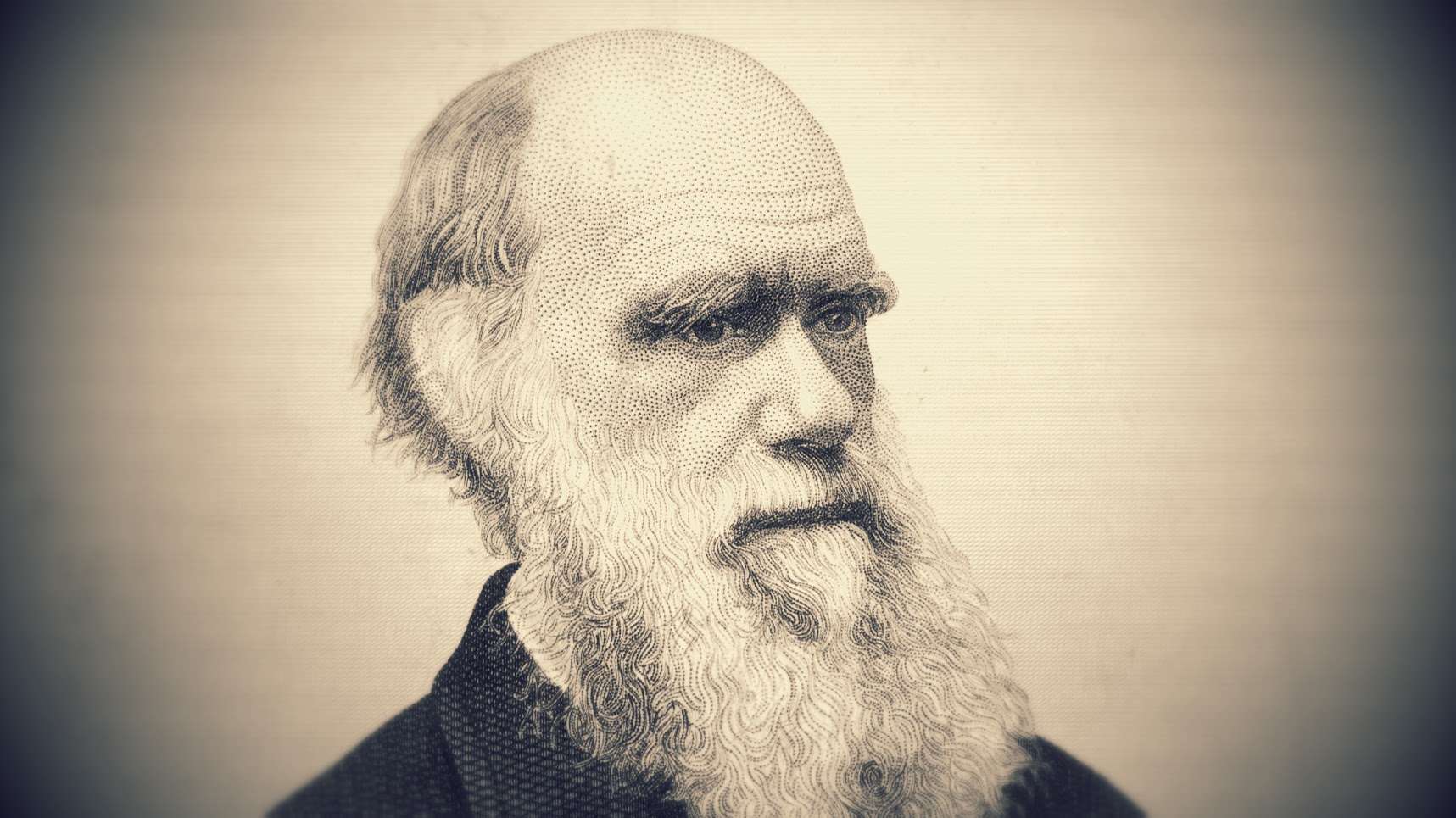
Британским мудрецам хвала! Британия вот-вот
пошлет подводные шары-суда в пучину вод.
Обшиты дубом их бока, горит заклепок медь,
иллюминаторы кругом, чтоб в моря глубь смотреть.
Они отправятся в поход, а воздух, чтоб дышать,
им Пристли щедрою рукою там будет подавать.
Принимая участие во всех местных начинаниях (рытье канала, постройке ветряной мельницы для фарфорового завода Веджвуда, основании линнеевского общества, раскопках окаменелостей), Эразм в конце концов очутился в самом сердце движения, из которого одновременно вылупились английская индустриальная революция и наиболее радикальный романтизм.
Вокруг Эразма и молодого шотландского врача Уильяма Смолла (друга Бенджамина Франклина) образовалось Лунное общество (Lunar Society). Члены его, «лунатики» — промышленники, ремесленники, ученые или литераторы, — регулярно, чаще всего в полнолуние (чтобы облегчить себе ночное возвращение домой), собирались для обсуждения проектов urbi et orbi [городу и миру (лат.)].
Джеймс Уатт, еще один шотландец, мало озабоченный своей национальностью, зато большой специалист по паровым машинам, встречался здесь с Мэттью Баултоном; их союз в 1763 году помог направить Англию по пути прогресса. Тот же рецепт подхватит и Франция, где несколькими годами позже будет создано Аркейское общество — очень бонапартистское, очень формализованное, но явно недостаточно лунатическое, ибо тут научная революция не получилась: видимо, свет луны полезнее для просвещения и научного прогресса, нежели свет имперского солнца. Как бы там ни было, в Лунном обществе не колебались, когда требовалось личное участие в мероприятиях (сам Эразм посадил ботанический сад в четыре гектара), и не скупились на зажигательные лозунги («Призвать воображение под знамена науки!»), которые подхватят потом представители следующего поколения: Кольридж, Вортсворт, Шелли. Но весь этот шум, в конце концов, достиг любопытных ушей общественности, а заодно показал, кем были «лунатики» на самом деле: либеральными – а то и радикальными прогрессистами, что ко времени Французской революции стало восприниматься как скверный порок.
Удерживаемый узами второго брака от поездок из Лихфилда в Дерби, Эразм скучал без своих друзей, зато посвящал больше времени литературному труду. Одно за другим появятся его сочинения: «Ботанический сад» (1789 — 1790) и — самое известное — «Зоономия» (1794 — 1796), вызревавшее более двадцати лет. Первая из книг принесла ему недолговечную писательскую славу (и разочарование Кольриджа, не оценившего научной поэзии Эразма подобной, но его мнению, «туману, поднимающемуся порой у подножия Парнаса»), а вторая обеспечила место среди избранных в истории биологии. Эразм — это, ни много ни мало, связующее звено между Линнеем и Чарльзом Дарвином. Карл фон Линней (1707- 1778) верил в божественное творение; Эразм же, не делавший секрета из своего атеизма, искал чисто научное объяснение разнообразию форм жизни. Но «Зоономия» — еще и медицинский трактат, и Эразм в нем заменяет общепринятую идею витальной силы идеей сенсория, объемлющего «не только основную ткань мозга <…> нервов, органов чувств и мышц, но также и жизненное начало, подвижный дух, пронизывающий все тело незаметно для органов чувств». Следуя идеям Ламетри и выступая против чисто механистического понимания живого, Эразм различает сенсуальное движение («идеи») и движения мышечные. Их бесконечные комбинации создают всевозможные патологии. Он выделяет четыре разновидности сенсория: раздражение, чувствование, воление и ассоциация. Для каждого из них характерны свои симптомы: кровотечение, диарея, камни в почках — для раздражения; удовольствие и страдание — для чувствования; паралич и смех (!) — для воления; плеврит и опьянение (!!) — для ассоциации. И следует признать, что эта классификация небезынтересна, поскольку включает также, строго говоря, не поддающиеся классификации симптомы: «томление по красоте» (desiderium pulchritudinis) или «страх геенны» (orsi timer).
Идеи Эразма связаны с представлениями об «импульсах», ответственных за частые слезы и истерики и будораживших светское общество XVIII века — общество «человеко-машин и истеричных женщин», как его называет Анна Венсан-Бюффо в «Истории слез». Вольтер у нее жалуется на то, что «родился очень чувствительным», а Руссо рассказывает о своей нервозности: «[У меня случались] беспричинные слезы, напрасные страхи, перепады настроения в покое самой безоблачной жизни». Кстати. Эразм Дарвин познакомился с Руссо, когда тот приезжал в Англию. Не будучи представлен и отчаявшись привлечь внимание Руссо, Дарвин сделал вид, что заинтересовался каким-то цветком на клумбе. Это вывело Руссо из задумчивости и они разговорились. Их дружба, завязавшаяся на почве ботаники, продолжалась потом много лет.
Но именно к 39-й главе «Зоономии», «О рождении», устремляется обычно интерес историков, жаждущих обнаружить истоки дарвиновской мысли, которая шестьюдесятью годами позже произведет переворот во всех сферах биологии. Сначала Дарвин-дедушка заявляет в ней, следуя медицинской логике своего изложения, что «у всех животных единое происхождение, то есть они происходят от одной линии живого, а разнообразие их форм и качеств — всего лишь результат различных проявлений в этой исходной линии раздражительности, чувствительности, воли и ассоциативности». Так что вполне возможно, «как это уже допустил Линней в отношении царства растений, что чрезвычайное многообразие видов животных, обитающих на земном шаре, которое мы наблюдаем сегодня, берет начало от нескольких естественных типов». Эта идея наличия у людей общих предков с цаплями и абрикосами наделает потом много шума, но Эразм в свое время оказался перед затруднительным вопросом: как все это могло эволюционировать во времени без какого бы то ни было вмешательства провидения? И аргументы, к которым он прибегает, очень близки к тем, что потом найдутся и у Чарльза. Почему у петухов есть шпоры?
Видимо, конфликты между мужскими особями заведены природой для того, чтобы в продолжение рода вовлекались наиболее сильные и активные животные, способствующие совершенствованию вида.
А почему у кур есть клюв?
Похоже, все эти приспособления приобретаются постепенно, в длинной череде поколений, в непрестанных попытках животных добывать себе пищу, и передаются потомкам с постоянным улучшением в тех частях, которые способствуют достижению желаемой цели.
Конечно, Эразм здесь ближе Ламарку, верившему в прямое наследование приобретенных признаков, чем собственному внуку, которому (почти) удалось все объяснить в терминах случайности и отбора. Но тон исследования и качество научного материала (Эразм, в отличие от Чарльза, не бывал в далеких путешествиях, зато читал все описания путешествий своих современников) отчетливо сближают «Зоономию» с «Происхождением видов»; первый набросок «Происхождения видов» даже был озаглавлен «Зоономия». Причина того, что изначальный заголовок зачеркнут в рукописи единым росчерком пера, причина этого корнелиевского отказа от наследства деда, чья мотивация была очевидно близка его собственной — объяснить слепую эволюцию живой природы посредством исключительно рациональных законов, — лежит, вне всякого сомнения, в нежелании возводить фундамент новой науки на слишком зыбком основании лунатического романтизма. Чарльз прокомментировал в своей < Автобиографии»:
В то время я был в восторге от «Зоономии», но, перечитывая ее во второй раз через десять или пятнадцать лет, я порядком разочаровался в ней — слишком велика доля развиваемых там домыслов по отношению к представленным фактам.
Это разочарование не смогло затушевать глубокой интеллектуальной родственности внука и деда: за полвека до того, как Чарльз превратил человека в потомка обезьяны, Кольридж писал, что философия Эразма — это «теология орангутанга, заменившая собой пять первых глав Книги Бытия».
В 1798 году просвещенная поэзия Эразма стала объектом безжалостной пародии, а члены и сторонники слишком уж революционного Лунного общества рассеялись в ходе жестокой якобинской кампании. И если сам Эразм умер в своей постели в 1802 году, то его старый друг Пристли лишился дома — сожгли во время мятежа — и был вынужден бежать в Америку, где содействовал, при Франклине и Томасе Джефферсоне, первому младенческому лепету научного сообщества, которому предстояло навязать свой стиль и свои ценности всему миру.
Источник информации:
Сентиментальная история науки
Никола Витковски

